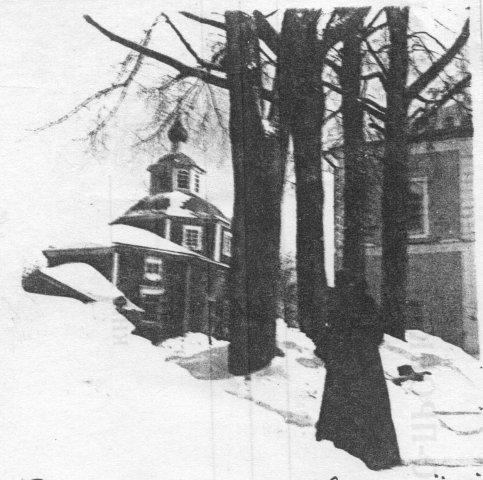| Главная » Статьи » Тихвин и тихвинцы в художественной литературе. |
Тихвинские сюжеты и лица в прозе Тэффи.Печальная история тихвинского просвещения является также темой рассказа Тэффи «Учительница»: «Я видела её давно, лет десять назад, и, вероятно, никогда бы о ней не вспомнила — уж очень мало в нашей городской обстановке такого, что могло бы о ней напомнить. Итак, видела я её давно, лет десять назад, в захолустном уездном городке, на вечере у земского врача. Вернее сказать, не на вечере, а просто вечером, потому что гостей врач не звал, да и не мог звать, так как вся обстановка его парадной комнаты заключалась в большом столе, под которым сидели трое детей. — Там детям веселее, а нашим ногам теплее, — говорил врач. В соответствующее время — часов около восьми вечера — дети с громким рёвом убирались из-под стола в детскую, вокруг стола ставились табуретки, а на стол — самовар, накромсанная огромными кусками булка и сахар в лавочном мешке. Пили чай и разговаривали, а так как в природе в это время был вечер, то, следовательно, был он и в квартире доктора. Кроме хозяев и меня сидели ещё двое: городской учитель Пенкин и сельская учительница Лизанька Бабина. Учитель Пенкин был замкнутый, неразговорчивый, точно заспанный, человек. Кроме служебных занятий предавался он ещё, и очень деятельно, сборам к давно задуманной поездке в Париж. На что был нужен Пенкину Париж — до сих пор понять не могу, хотя думаю об этом с тех пор десять лет».
В гостях у Гусаковских. (Я предполагаю, что местом действия является квартира известного земского врача Казимира Львовича Гусаковского, женой которого была сестра другого земского врача Василия Васильевича Ле-Дантю, Прасковья Васильевна. И действительно в семье было трое детей. Прототипом главной героини, по моим предположениям, скорее всего, была Л. В. Завьялова. Хотя образ сельской учительницы вполне мог быть собирательным. Слегка изменив фамилию, и, переставив имя и отчество, Тэффи очень узнаваемо изобразила также тихвинского учителя и общественного деятеля Петра Васильевича Пеняева.) Вот как выглядит в изображении Надежды Александровны незавидная доля сельской учительницы: «Тут познакомилась я и с учительницей Лизанькой Бабиной. Бабина окончила одну из петербургских гимназий и даже пробыла год на педагогических курсах. Потом взяла место земской учительницы и просвещала молодёжь в восьмидесяти верстах от города, в деревушке Кукозере, куда в трёх четвертей года ни проезду, ни проходу не было. Зимой с шиком ездили в розвальнях. Осенью и весной совсем не ездили, а летом учительница приезжала в город на смычке. Услышав это, я по наивности подумала, что на смычке от скрипки, и никак не могла понять, что за странный способ передвижения. Уж тогда бы удобнее было сесть верхом на саму скрипку. Потом объяснили мне, что смычком называется следующее сооружение: к лошади прикрепляются длинные оглобли, концы которых связаны и приблизительно на аршин от земли соединены перекладиной. На эту перекладину садится учительница Лизанька и скачет по кочкам «чрез пень, чрез колоду, чрез высоку изгороду». Где колесу не пройти, там проскачут только ведьма на помеле да учительница Лизанька на смычке. Смычок о гнилые пни стукается, поддаёт, пружинит, подбрасывает. Лизанька подтянет потуже старый ременный кушак, «чтоб не всё внутри переболталось», и скачет. Скачет она в город только по одному делу — за жалованьем. Жалованье полагается получать раз в месяц, но ездить за ним приходится раза два, потому что денег в земстве нет. Но в земстве есть потребительская лавочка.
Слева на снимке в одноэтажном каменном здании располагалась лавка потребительского общества. — Вы бы, Бабина, взяли жалованье сахаром, — предлагают ей. — У нас сахару много. — Да что мне с вашим сахаром делать-то? Я говядины хочу. — Говядины у нас, извините, про вас не припасено. А сахар, непрактичная вы девица, мужикам продать можно. — Мужика-ам? Са-ахар? Да у нас в Кукозере мужики и соль-то только во сне видят. Садится на смычок, подтягивает кушак потуже и скачет домой «чрез пень, чрез колоду, чрез высоку изгороду». Иногда в городе зайдёт к доктору. Подивуется на роскошь городской жизни, на накромсанную булку, на троих детей под столом. Но больше молчит, потому что доктор и докторша — люди, следящие за жизнью, всё знают, читают журна-алы! А Лизанька одичала». Трагикомическая история, разыгравшаяся в жизни прислуги Воложбенских, в доме которых, как я предполагаю, Бучинские снимали квартиру, легла в основу рассказа «Весёлая вечеринка». Главный герой, сын кухарки Ванюшка поздно ночью отправляется через Каменную площадь на Преображенскую улицу в дом земского начальника, отставного поручика Владимира Кронидовича Агафонова. Он думает, что там, на вечеринке устроенной прислугой в честь Рождества, он встретится со своей зазнобой, горничной Татьяной, но неожиданно попадает в переплёт: «Через десять минут, бодро подскрипывая по твёрдому снежному насту, бежал он к дому земского начальника. Маленький городок давно уже успокоился. Фонари не горели, так как по календарю полагалась луна, почему-то в этот день на небесное дежурство не явившаяся. В окнах тоже было темно. Светился только верхний этаж городского клуба и трактир с надписью: «Для приезжаю» («щих» не поместилось). Ванюшка пересёк главную улицу и, свернув влево, юркнул в ворота маленького двухэтажного домика, занимаемого земским начальником.
Дом Агафоновых на ул. Знаменской, 36. Фото Ю. Мустафина. 1970-е гг. — Ну, куда же теперь? Тут темно, не напороться бы на что… Не то у ней кухня наверху, не то внизу. Никогда не бывавши, тоже не сразу поймёшь. Хоть бы вышел кто из парней… Он повернул вправо и налез на какую-то обледенелую кадку. Прямо стена. Налево лестница. Входную дверь он, войдя, машинально захлопнул и теперь никак не мог сообразить, с которой стороны он вошёл. Медленно, ощупывая ступеньки руками и ногами, влез он во второй этаж. Здесь тоже оказалось темно, и он долго шарил руками, не находя дверей. — Не! — решил он. — Кухня у ней внизу. Надо было там нащупать либо выйти и в окошко постучать. И он, стуча каблуками, боком стал спускаться с лестницы. Он был уже почти в сенях, как вдруг страшный дикий крик, раздавшийся снизу, остановил его. — Кто здесь! Стой, чёрт тебя возьми, не то я буду стрелять!.. Ошеломлённый Ванюшка замер на одном месте. Послышалось шуршанье спичечной коробки. Вспыхнул огонёк. Мелькнуло испуганное свирепое лицо земского начальника. — А-а, каналья! Попался! Я тебе покажу! Ты у меня узнаешь, где раки зимуют. Ванюшка сделал отчаянный прыжок, пытаясь увернуться от могучих рук земского начальника, ловивших его впотьмах… Бац! Бац! Одна рука крепко держит за шиворот голубую рубаху с помпадуровым галстуком, другая, сжавшись в кулак, дважды въехала в Ванюшкину физиономию. — Нет, голубчик, теперь не уйдёшь! И, продолжая наколачивать своего пленника, спотыкаясь и кряхтя, он поволок его вверх по лестнице. Ванюшка молча упирался, медленно подвигался вперёд и отчаянно брыкался ногами. Ступеньки трещали, каблуки звонко щёлкали, и спавшей наверху супруге земского начальника почудилось, будто какая-то взбесившаяся лошадь лезет к ней по лестнице. Барыня зажгла свечку и, испуганно крестясь, сидела на кровати. Дверь в спальню с треском распахнулась. — Машенька! Вот рекомендую! — тяжело отдуваясь, торжествовал земский начальник. Он поставил Ванюшку перед изумлённой барыней, продолжая держать его за шиворот и изредка потряхивая. — А хорош молодец? Возвращаюсь от лесничего, смотрю, ворота настежь. Подлые девки со своими балами совсем одурели, ни за чем не смотрят. Завтра всех к чёрту. Поднимаюсь по лестнице… здравствуйте! Лезет, голубчик! Я его подстерёг, дал немножко спуститься да цап за шиворот. У меня не отвертишься. — Да ты осторожней, Коленька, может быть, у него нож, — плаксиво затянула супруга. Ванюшка, с перетянутым горлом, молчал, тяжело дыша, и только широко раскрывал рот, как рыба, которую лишили родной стихии. — Да ведь я… — попробовал было он, но тяжёлый кулак, въехав ему под самый глаз, снова отнял у него дар слова. — Молчать! — заревел земский начальник. — Ещё разговаривать! Благодари Бога, что я полицию не зову. Другой бы сгноил тебя в остроге. Марш отсюда! Чтоб духу твоего не было. И товарищам своим скажи, чтоб дорогу ко мне забыли. И он снова собственноручно сволок Ванюшку с лестницы, вытурил на улицу и запер ворота на засов». В поздней прозе Тэффи интонация и стиль повествования меняются. Очень явственно сказывается влияние книги Ивана Шмелёва «Лето Господне». Появляется лирическое и эпически приподнятое и символическое изображение навсегда оставшейся в памяти малой родины. И у Тэффи очень часто это — новгородщина, те места, в которых осталась часть души. В этих рассказах зачастую создаётся камерный лирический сюжет, который соседствует с эпическим полотном, главным героем которого является тихвинская природа. Так, в рассказе «Анюта» скромный тихвинский сюжет разрастается до эпического полотна, в центре его — река Тихвинка: «На Святой прибежал к подрядчику Самсонову кудлатый мужик, быстрый, спешный — видно, что в работе. — Давай Степаныч, багров. Река тронулась. Нынче весна-то в три кнута гонит. Каждый ледоход выгонял людей отстаивать старый городской мост с деревянными ледорезами, расшатанными, как стариковские зубы. С двух берегов баграми и шестами толкали льдины, направляя их в средний, широкий пролёт. Река, забытая за зиму, грязная, бурая, вся в заплатах, полыньях и промоинах, с осевшими на бок ёлочными тычками, обозначавшими переходы и проруби, запаршивевшая, обросшая грязью, как зверь в зимней берлоге, вдруг вся потянулась и оползла старой шкурой. И город, полгода живший повернувшись к ней спиной, на главной улице, да на гостиной площади, снова целиком придвинулся к берегам, сбился на мост, стоял и смотрел и ждал. Посередине моста, перегнувшись через перила, ругал рабочих толстый инженер. Рабочие, скользя по талому, рыхлому береговому льду, неловко тыкали баграми и шестами, крича, ухая и ругаясь.
Большие льдины, кружась и покачиваясь, прошли под мостом. Показалась тёмно-серая тугая вода, забулькала у ледореза, закружила головы зрителям. Подплыли льдины, чужие, дальние, любопытные. На одной — солома и колесо. На другой — угли и головешки от костра. — Кто такой на реке ночевал? Видно, плохой человек… На третьей — что-то тёмное, мохнатое и будто шевелится. — Волка прихватило! — А может просто собака. Никто не хочет, чтобы была собака. Волк куда занятнее. Поплыли дрова, всё чаще, всё гуще. Размыло чью-то заготовку. — Черниковский швырок плывёт. Лови, ребята!
Тащут баграми дрова. Завтра пойдут черниковские приказчики по дворам отнимать добычу — да уж кто ж даром отдаст! Солнце припекало грязь, подсушивало её тонкой корочкой, кипел прозрачный ноздреватый снежок по краям деревянных уличных мостков. Беспокойно пахло рекой и дальним полевым ветром. Пусто было на обесснеженных улицах, чёрных от блестящей грязи. Весь город у реки. Чиновники с жёнами и городские девицы смотрели ледоход издали, с горушки. Подойти ближе к берегу благородному человеку было нельзя — очень уж густо и радостно ругались рабочие у моста.
Из монастыря, чинно, по двое, по трое, выходили в новых праздничных рясах монахи, мельком глядели на реку, вполглазка, чтобы не показать мирянам суеты, и уходили в свою аллейку. Бабы в пригороде расправляли на заборах драные, коробом слежавшиеся сети. И в три дня замолкла река, разделась, расколыхнулась, разошлись рабочие, успокоились горожане, и быстро, нарядно наклоняясь бочком и дымя тёмным клубочком, пробежал казённый пароход. Пароход бежит! Пароход бежит! — закричали по городу. Кончился весенний перелом. Начиналось лето». Живая жизнь деревьев, насекомых и животных лесов, примыкающих к усадьбе Галично и к Тихвину, увиденная слитым с этим миром взглядом, предстает во всей своей поэтической полноте в рассказах «Лесная идиллия» и «Лесной ребёнок». Из всей семьи дядюшки, судя по тому, что и как отразилось далее в творчестве Тэффи, самыми дорогими её сердцу были, кроме самого дядюшки, оставившего самые тёплые по себе воспоминания, ещё только два человека. Это — ставшая полулегендарным персонажем и кочующая по нескольким рассказам старая нянька, доставшаяся Лохвицким от Корсаковых, и любимый брат - ровесник Георгий, жизнь которого так трагически оборвалась в юности, вошедший в литературу под именем Гриша. Его внешность, его натура — человека не от мира сего, отражена в рассказах Тэффи с такими сочувствием и любовью и так ею поэтизируется, что просто выпадает из привычного мира и носит полумифический характер. Особенно это характерно для поздней прозы. Образ Гриши является главным в четырёх самых поэтичных рассказах из тихвинской серии: «Троицын день» и "Нигде", в которых он — главный герой, ещё маленький, болезненный мальчик, «Книга Июнь», где он — робкий и добрый юноша и в рассказе «Воля», я думаю, речь также идёт о нём. Только о раннем его уходе она не пишет, его образ, вызывающий жалость и любовь, не вписывается в тесные рамки обыденности, выламывается из неё. Любящая и помнящая сестра постаралась, как могла, подарить ему бессмертие. В поэму в прозе превращён, переполненный ностальгией по ушедшему времени, один из лучших, с моей точки зрения, рассказ Тэффи «Воля»: «Вольно, мальчик, на воле! На воле, мальчик, на своей! Новгородская песня
— Вот и лето настало. — Вот и весна. Май. Весна. Ничего здесь не разберёшь. Весна? Лето? Жара, духота, потом — дождь, снежок, печки топят. Опять духота, жара. У нас было не так. У нас — наша северная весна была событие. Менялось небо, воздух, земля, деревья. Все тайные силы, тайные соки, накопленные за зиму, рвались наружу. Ревели животные, рычали звери, воздух шумел крыльями. Высоко, под самыми облаками, треугольником, как взлетевшее над землею сердце, неслись журавли. Река звенела льдинами. Ручьи по оврагам журчали и булькали. Вся земля дрожала в свете, в звоне, в шорохах, шёпотах, вскриках. И ночи не приносили покоя, не закрывали глаз мирной тьмой. День тускнел, розовел, но не уходил. И мотались люди, бледные, томные, блуждали, прислушивались, словно поэты, ищущие рифму к уже возникшему образу. Трудно становилось жить обычною жизнью. Что делать? Влюбляться? Писать стихи о любви и смерти? Мало. Всего мало. Слишком сильная наша весна. И манит она всеми своими шёпотами, шорохами, звоном, светом — на простор, на волю. На вольную волю. Воля — это совсем не то, что свобода. Свобода — liberte, законное состояние гражданина, не нарушившего закона, управляющего страной. «Свобода» переводится на все языки и всеми народами понимается. «Воля» — непереводима. При словах «свободный человек» — что вам представляется? Представляется следующее. Идёт по улице господин, сдвинул шляпу слегка на затылок, в зубах папироска, руки в карманах. Проходя мимо часовщика, взглянул на часы, кивнул головой — время ещё есть — и пошёл куда-нибудь в парк, на городской вал. Побродил, выплюнул папироску, посвистел и спустился вниз, в ресторанчик. При словах «человек на воле» — что представляется? Безграничный горизонт. Идёт некто без пути, без дороги, шагает, под ноги не смотрит. Без шапки. Ветер треплет ему волосы, сдувает на глаза — на глаза, потому что для таких он всегда попутный. Летит мимо птица, широко развела крылья, и он, человек этот, машет ей обеими руками, кричит ей вслед дико, вольно и смеётся. Свобода законна. Воля ни с чем не считается. Свобода есть гражданское состояние человека. Воля — чувство. Мы, русские, дети старой России, рождались с этим чувством воли. <…> До последнего дня были в России странники. Ходили по монастырям, и не всегда вело их религиозное чувство. Всё дело было в том, чтобы идти. Их «тянет», как тянет весной перелётных птиц. Тяга. Непонятная сила. Мы, русские, не так оторваны от природы, как европейцы, культура лежит на нас лёгким слоем, и природе пробиться через этот слой проще и легче. Весной, когда голоса проснувшейся земли звучат громче и зовут громче на волю, — голоса эти уводят. Как дудочка средневекового заклинателя уводила из города мышей. Я помню, как мой двоюродный брат, пятнадцатилетний кадет, тихий мальчик, послушный и хороший ученик, два раза убегал из корпуса, пробирался далеко в северные леса и, когда его разыскивали и возвращали домой, он сам не мог объяснить своего поступка. И каждый раз это было ранней весной. — Почему ты ушёл? — спрашивали мы. Он застенчиво улыбался. — Сам не знаю. Так. Потянуло. Потом, будучи уже взрослым, он вспоминал об этой полосе своей жизни с каким-то умилённым удивлением. Он не мог объяснить и сам не понимал, что за сила тянула его и уводила. Он говорил, что ясно представлял себе отчаяние матери и жалел её до слёз, и представлял себе, какой скандал произвело его бегство в корпусе. Но всё это было как в тумане. Та, настоящая жизнь была, как сон. А эта, «чудесная», стала жизнью реальной. И даже страшно, как мог столько лет — целых пятнадцать! — жить так неестественно, тяжело и скучно. Но думал он мало, больше чувствовал. Чувствовал волю. — Бредёшь без дороги по глухому лесу. Только сосны да небо — один в целом свете. И вдруг заорёшь диким голосом изо всех сил, изойдёшь в этом крике такой первобытной радостью, что потом долго только дрожишь и смеёшься. И ещё рассказывал: — Удалось видеть, как медведь наслаждался музыкой. Лежал медведь на спине около большущего дерева, сломанного бурей. Дерево было старое, расщепилось и торчало в разломе лучинами. Вот медведь вытянет передние лапы, дёрнет за эти лучины, они загудят, затрещат, защёлкают, и медведь заурчит, занежится, ему, значит, эта музыка нравится. Опять дёрнет и наслаждается. Никогда я этой картины не забуду. А ночь северная, белая ночь. На севере она, между прочим, не такая бледная, как, например, в Петербурге. На севере она розовая, потому что там заря никогда не сходит с неба. Вечерняя догорает, и тут же рядом, прежде чем она потухнет, загорается рассветная. От неё в лесу розовый дым, и в этом розовом дыму — представляете себе картину: медведь музицирует, а из кустов на него смотрит мальчишка и чуть не плачет — а может быть, и плачет — от любви и восторга. Ну, разве это забудешь! <…> Теперь часто слышишь: — Эх, побывать бы в России. Хоть денёк. Пойти бы в лес — он ведь тот же остался. Поплутать там, подышать на вольной волюшке. И я тоже вспоминаю. Всегда весной. Вспоминаю белую ночь. Самое глухое время — часа два. Светло, розовеет небо.
Стою на террасе. Там, внизу, за цветником, река. Слышно, как звякает глухой колокольчик и покрикивает мальчишка-погонщик. Это тянут бечевой баржу-беляну далеко, к Волге. Усталые, бессонные глаза щурятся от розового света, и томно замирает сердце. А там, за рекой, кто-то, захлебываясь от восторга, орёт во все горло дикую, бестолковую, счастливую песню. Жил мальчик на воле, На воле, мальчик, на своей! И кажну мелку пташку На лету мальчик стрелял, И кажну красну девицу Навстречу мальчик целовал. И потом припев, истошный, надрывно радостный, с каким-то прямо собачьим визгом, потому что уж слишком из души: Вольно, мальчик, на воле, На воле, мальчик, на своей! И я, сама не зная как, поднимаю руки и машу заре и дикой песне, и смеюсь, и кричу: — Воль-но-о-о!»
Одно из тихвинских болот стало глубоким символом в рассказе «Сердце». Ничем не примечательный сюжет, повествующий о том, как приятели — учитель, студент-медик, помещица, актриса и деревенская баба Федосья совершают паломническую прогулку из деревни к монастырю через болото. Бытовой и обычный для Тэффи сниженный тон повествования вдруг подчёркивает тот глубокий и притчевый смысл, который отражается в приземлённом и обычном сюжете. Можно предположить, что герои рассказа идут и приходят в древний Антониево-Дымский монастырь, хотя из деревни Галично до него не 8 вёрст, а значительно меньше. В этом рассказе происходит чудо, и поэтому он производит светлое впечатление на читающего, в отличие от другого рассказа о том же месте, о котором я упоминала выше. «Идти пришлось болотом восемь вёрст. Можно было и в объезд, да круг больно большой, и лошадей в деревне не достать — все в поле работали. Вот и пошли болотом. Тропочка вилась узенькая, с кочки на кочку, и то в самом начале, а потом сплошь до монастыря шли мостками, скользкими, нескладными, связанными из двух брёвнышек, либо прямо из палок, хлюпающих и мокрых. Трава кругом была яркая, ядовито-зелёная и ровная, будто подстриженный газон английского парка. Тонкие берёзки-недородыши белели, зыбкотелые, робкие и нетронутые. Так и чувствовалось, что никто никогда не примнёт ядовитую травку и не согнет тонких прутиков. По болоту монастырскому ни проходу ни проезду не было: летом не высыхало и зимой не промерзало. Шли гуськом. Если бы встретили кого, так и разминуться трудно: узки были скользкие жёрдочки. <…>
Группа тихвинской интеллигенции на фоне одного из тихвинских монастырей в 1906 году. Фото из собрания А. Герасимовой. Монастырские постройки вынырнули как-то сразу, даже странно было, — неужто могли куцые берёзки укрыть их из глаз. Пусто было. Монахи ушли в церковь. У белой, яркой стены сидел слепой с деревянной чашкой в руках. Услышав шаги, закланялся, загнусавил безнадёжно. — Притворяется, — сказала Лыкова. Медикус присел, заглянул слепому в глаза и отчеканил какое-то латинское слово. А артистка Рахатова медленно повела головой и продекламировала: — Какая красота! Этот нищий, — это такое яркое колоритное пятно! И словно пояснила другим тоном: — У меня бывал зимой художник Гринбаум. Очень талантливый. Учитель бросил медяк в чашку. Федосья позавидовала, покачала головой и зашептала: — Эти слепые очень даже опасный народ. Они как скопом соберутся, больших могут преступлениев наделать. В углу двора, у монастырской кухни, два широкоплечих монаха и мужик в картузе свежевали огромного, положенного на широкую доску, сома. Мужик рубил рыбу широким ножом, один монах держал её уцепленным за нос крюком, а другой смотрел и крякал при каждом взмахе ножа. Потом взял ведро и окатил водой перерубленную, с отвалившейся головой рыбу. И вдруг что-то дрогнуло в одном из средних кусков; дрогнуло, толкнуло, и вся рыба ответила на толчок так, что даже отрубленный хвост её двинулся. — Это сердце сокращается, — сказал Медикус. Помещица Лыкова взвизгнула и побежала прочь. Монахи неодобрительно посмотрели ей вслед. Вечер провели очень мило. Сидели на каменной ступеньке у монастырской гостиницы. Разговаривали. Рыбачка Федосья была тут же, но, из уважения к господам, примостилась пониже, на брёвнышке. Сначала рассказывали всякую ерунду про монастыри и про монахов. Затем, когда зелёный учитель неожиданно промямлил какой-то неприличный анекдот, разговор сразу покатился лихой и свободный, точно выехал на большую, наезженную дорогу, — только пыль столбом. Прошёл к амбару толстый монах, гремя огромными ключами без бородок. — Говеть приехали? Это вышло уже совсем весело. От смеха Медикус, как бык, замотал опущенной головой. — А что ж, господа, — сказал Полосов. — В монастыре интересно говеть. Будут нас исповедовать по монашескому требнику. Там у них такие грехи, какие нам и во сне не снились. Ей-Богу, прелюбопытно. Артистка Рахатова решила, что будет говеть. Федосья одобрила. Утром к исповеди, за обедней причаститься — и готово. Опять принялись за анекдоты. <…> Вставать было тяжело. Всё тело ныло и болело. Мужчины ещё спали. Лыкова, Рахатова и Федосья пошли в церковь по мокрой утренней траве. Прошли мимо вчерашней доски, где рубили рыбу. Чешуя и плавники ещё валялись неприбранные, и монастырский петух сердито клевал их. В церкви жались к стене четыре деревенских девки с испуганно-набожными лицами, и суетился около аналоя очень старый, с прозеленевшей сединой, монашек в линялой, побуревшей ряске.
Антониево-Дымский монастырь. Зимний вид. — Вот она исповедаться хочет, — сказала Лыкова про Рахатову. Монашек засуетился ещё больше, словно растерялся. — Вы, верно, хотите, чтобы вас сам настоятель исповедывал? — зашептал он. — Нет, нет, нам всё равно. Монашек замялся, замучился. — Нет, вы, верно, хотите, чтобы настоятель... — Это он не смеет... не смеет... — зашептала Федосья. — Нет, я хочу, чтобы вы, — решительно сказала Рахатова. Ей уже надоела эта затея. Монашек заспешил, заспотыкался, пошёл к ширме. «Сейчас начнётся занятное», — думала Рахатова, видя, как монашек развёртывает требник. Но он всё медлил, всё волновался и, видя, что Рахатова смотрит в книгу, прикрыл листы дрожащей, скрюченной рукой. — Слушаетесь ли вы старших? «Он меня принимает за маленькую девочку!» — подумала Рахатова и тут же стала представлять себе, как потом можно будет всё это смешно и забавно рассказывать. Машинально отвечала на редкие, робкие вопросы старичка, всё закрывавшего и прятавшего от неё слова требника. «Закрывает! От меня закрывает! У него от старости мозги совсем уже размякли. Меня бережёт, меня!». — Особых грехов нет? — Нет! Он молчал, и она посмотрела на него и тоже затихла.
Насельник одного из монастырей близ Тихвина. Она увидела такие счастливые, такие ясные глаза, что они словно дрожали от своего света, как дрожат слишком ясные звёзды, изливаясь лучами. Ничего не видно было, кроме этих глаз. Чуть намечалась, как в тумане, угадывалась прозеленевшая старостью седина жиденькой бородёнки и побуревшая ветхая ткань клобука. И вдруг дрогнуло всё лицо его, и залучилось тонкими морщинками, и улыбнулось детской радостью всё, — сначала глаза, потом впалые, обтянутые высохшей кожей, щёки и сморщенный рот. И рука задрожала сильней и мельче. — Ну и слава Богу, что нету! И слава Богу! Он весь трепетал; он весь был, как большое отрубленное сердце, на которое упала капля живой воды, и оно дрогнуло, и дрогнули от него мёртвые, отрубленные куски. — Слава Богу! Рахатова закрыла глаза. «Что же это? — спрашивала она свою сладкую тоску. — Неужели я заплачу? Да что же это? Нет... Это просто от усталости. Истерика, истерика, истерика!». Назад ехали в крестьянской телеге. Медикус отнял у мужика вожжи, кричал и ухал на лошадь, которая отмахивалась от него хвостом. Полосов спал. Федосья осуждала монастырские порядки. — И очень плохой монастырь. Монахи с табачищем так и ходят, так и сосут. На голове каблук, а под носом табак! Прямо не произнесть! На огороды тридцать баб работать нагнали, а сами и не ворохнутся. Не произнесть! Распущенный монастырь. На прошлой неделе двух монахов изо рва пьяных вытащили, еле откачали. Не произнесть! Рахатова и Лыкова молчали». Завершить свой обзор тихвинских сюжетов и лиц в прозе Тэффи я хочу фрагментом, может быть, не самого оригинального, но зато самого откровенного по тону рассказа, с говорящим заглавием: «Тоска по родине». «Мы сидели на каменной скамеечке у обрыва Фьезоле и смотрели на панораму вечерней Флоренции. Медленно таяло розовое солнце, медленно спускались голубые тени на фиолетовые холмы, с недвижными на них, как семисвечники алтарей, тонкими, прямыми кипарисами. Это те самые холмы, которые полюбил Леонардо в окне Джоконды. И так же, засыпая, улыбалась Флоренция, как тогда ему. <…> Тут же, на Фьезоле, сидел с нами и Васюка Пономарёв. Васюка был наш новгородский, купеческий сын, знали мы его почти с детства, когда он был толстощёким гимназистом, съевшим потихоньку — история трагическая — целый именинный пирог, который его мать испекла на двадцать поздравителей. Помним его и семнадцатилетним парнем, когда его отец выпорол через посредство трёх городовых. Порка эта была вызвана крайней необходимостью и принесла плоды блестящие. Дело в том, что кроме Васюки было у его родителей трое старших сыновей, и каждый из них, как наступал ему семнадцатый год, начинал сбиваться с толку: переставал учиться, начинал безобразить и, в конце концов, спивался. И только с Васюкой старый Пономарёв вовремя догадался. Выпоротый Васюка снова принялся за ученье и кончил университет. Теперь старики отправили «сваво болвана потешествовать». Мы встретились с Васюкой во Флоренции. Он вздыхал на палаццо и музеи, поднимая средневековую пыль, и всюду тащился за нами, тупо-равнодушный, точно нанятый. И здесь, на Фьезоле, Васюка вздыхал и, повернувшись спиной ко всем флорентийским красотам, колупал стену ногтем. В его толстой, понурой фигуре, беспомощно и неловко вывернутых ногах было столько тихой, застенчивой тоски, что мне стало жаль его. — Василий Иваныч! Вы чего загрустили? Он помолчал минутку, потом приподнял голову и посмотрел на меня грустно, точно с упреком. — Суббота сегодня. Суббота. — Да, кажется, суббота. А что? — Суббота сегодня. У нас в городе теперь к всенощной звонят... Головиха Мавра Федотовна через мост идёт в монастырь... Холодно, небось, сиверко. Небось, ватную кофту надела, в калошах, всё как следует. Он тянул слова медленно, с болью, с упрёком. — Деревья-то, небось, голые. Так, разве где внизу листок болтается, ослизлый, морщенный. А наверху, небось, голые палки торчат... Монахи через лужу доску перебросили, — пройдёшь и ног не замочишь. Благодать!.. Он ещё хотел что-то сказать, вздохнул, захлебнулся и смолк. Такой был жалкий, растерянный, как толстый обиженный ребёнок, что и утешить его захотелось, как ребёнка. — Ну, что вы, Василий Иваныч! Посмотрите-ка лучше, какой чудный виноград, — жёлтый, медвяный. Он машинально отщипнул ягодку, пожевал тупо, по-коровьи. — А у нас-то теперь в городе клюква поспела! Бабы клюкву в кошелях по городу разносят. За шесть гривен можно целый кошель купить. Исправничиха с корицей варит. С корицей и с лимоном. Он даже оживился слегка тем грустным оживлением, с каким родители говорят о талантах умершего ребёнка. — Да, с корицей и с лимоном. А брусника-то уж давно поспела, про бруснику-то у нас уж и думать забыли. Он гордо откинул голову, точно здесь, на Фьезоле, только и думают, что о бруснике. — У нас теперь хорошо! И он снова поник и погас. «Дурень ты несчастный, — думала я, — ну, как мне тебя утешить?» А старый итальянец всё пел, сладко, переливчато, а молодой переводил. — Теперь он об её глазах: «Я не видел звёзд, я видел только их»... — Скажите, Василий Иваныч, вы, кажется, не любите Флоренции? Он как-то по-бабьи улыбнулся и сказал: — Э, что там! Флоренцию просто любить. Мне вспомнилась новгородская баба-погорелка, приплевшаяся просить с двумя ребятами, из которых старшая, поразительно красивая, здоровая девочка, весело прыгала, а вторая, чахлая, вся в коросте, еле поднимала слипшиеся больные веки. — Небось, любишь девчонку-то? — спросили бабу про красавицу. — Это-то? Эту просто любить, — презрительно усмехнулась баба, точь-в-точь, как теперь Васюка... — Я больше эту жалею. Она прижала к себе чахлую, коростивую и вся задрожала и как-то по-звериному тихо зарычала: «у-ы-ы!». — Слушайте, Василий Иваныч, — неожиданно для самой себя сказала я. — Мне кажется, что на болотах берёзки еще зелёные. Они на болотах как-то дольше держатся. Я вспомнила осеннее болотце, унылое, с проступившей водой, с жёлто-ржавой зеленью. И на нём, на мокрой кочке — берёзку-недородыш, маленькую, тонкую, бледную, как выдержанная без света и пищи святая мученица старинной иконы. Стоит — дрожит, тянется к солнцу чуть живая, а будет жить. Будет жить. — Как глупо думать об этом! — вдруг спохватилась я. Почему-то — моё, а это — не моё, — этот вечер, эта гора, эта песня. Весь мир — мой в равной степени. Вся земля моя, и где я, там моё. И вдруг почудился мне простой скрипучий голос, каким говорят у нас в России захудалые извозчики да корявые мужичонки. — Ан вот и врё-ёшь! — сказал голос. — Ан вот и не твоё. И не родное. И город не твой, и вечер не твой, и на виноград этот смотришь ты с таким чувством, будто он по-русски не понимает. Вот комар тебя давеча укусил. Дома закричала бы на него непосредственно «ах, проклятый!», а здесь, небось, не закричала так, потому что вся душа твоя чувствует, что здесь этот самый комар — не комар, а «занзара», и кричать на него надо не непосредственно, а подумавши. «Маmmа mia mаladettа» или что-то в этом роде. Вот с края у стены пальма растёт, — ствол сочный, упитанный, верхушка расфрантилась, распушилась, раскрахмалилась. Чужая, противная, несерьёзная. Старик поёт жирным фальцетом: «Я не знаю, взошло ли солнце, потому что вижу только тебя!» Противно. — Ага, противно! — опять заскрипел голос. — А, небось, не было противно, когда патлатый ямщик гнусавил без складу, без ладу:
Жил мальчик на воле, На воле мальчик на своей. И кажну мелку пташку На лету мальчик стрелял, И кажну красную девицу Навстречу мальчик целовал. Вольно, мальчик, на воле, На воле, мальчик, на своей! — Ч-у!
Пропел и у-ухнул так, что все три клячи только хвостами дёрнули. Тогда, небось, улыбалась, и ветерок обвевал рассветный, ласковый, незабываемый, свой, свой... — О mia Ferenze, o citta dell canto! — томно стонал молодой итальянец. — Василий Иваныч! Не пойти ли нам домой? Мне что-то так скучно!., так скучно!» Я думаю, дорогой читатель, что прочтя все те рассказы, о которых я упоминаю в этом обзоре, а также найдя тихвинские мотивы и в других, не упомянутых здесь текстах замечательной писательницы мы с вами вправе воскликнуть: «Да! И у Тихвина есть свой собственный литературный классик! Есть ещё одно имя, которым всем тихвинцам стоит гордиться и память о котором чтить! Приходите в библиотеку Тэффи, где собраны почти все произведения нашей замечательной писательницы, читайте и вы станете счастливее и не пожалеете о потраченном времени. Иллюстрациями в нашем обзоре служат фотографии из уникальной виртуальной коллекции группы «Старый Тихвин». Спасибо всем её участникам за память о прошлом и любовь к нему.
Т. Владимирова.
| |
| Просмотров: 3460 | | |
| Всего комментариев: 0 | |